Дело в том, что в метрическом стихе возможны пять видов аномалий. Три из них —
синкопа (переакцентуация), гипертесис (внесхемный ударенный слог) и гиперарсис
(внесхемный безударный слог) — приводят только к усложнению метра, так как объем
стопы остается прежним.
...где он,
бронзы звон
или гранита грань?
Биполярность этого стиха состоит в том, что, несмотря на нарушения, в нем под
влиянием ритмической инерции чувствуется метрическая сетка. Наиболее отчетливо
она чувствуется в простейших случаях, при единичных случаях аномалий нарушения.
Но постепенно, по мере увеличения количества аномалий, ощущение метрической
сетки слабеет и наконец исчезает совсем. Стих начинает жить по законам класса
дисстопных стихов.
А. А.: Да, конечно, хотя это – пограничные явления. И грань между ними бывает
очень тонкой. Вот только подходят они к ней – с противоположных сторон:
стихопроза – это проза с усиленной ритмической организацией и, обычно,
повышенной образностью; а свободный стих – это, безусловно, стихи. Тут важную
роль играет установка автора: что именно он пишет. И, вслед за ним, у читателя –
что именно тот читает. По-моему, у Лотмана в “Анализе поэтического текста” есть
это тонкое наблюдение: один и тот же текст по-разному читается в зависимости от
того, полагаем ли мы его стихами или прозой. Ну, и пишется по-разному. Так вот.
Стихопроза – это проза, а свободный стих – это стихотворение с соответствующей
структурой. Казалось бы, технический вопрос, но за ним стоят разные типы
мышления. Вообще, поэзия и проза имеют разное происхождение.
А. А.: Да, конечно, хотя это – пограничные явления. И грань между ними бывает
очень тонкой. Вот только подходят они к ней – с противоположных сторон:
стихопроза – это проза с усиленной ритмической организацией и, обычно,
повышенной образностью; а свободный стих – это, безусловно, стихи. Тут важную
роль играет установка автора: что именно он пишет. И, вслед за ним, у читателя –
что именно тот читает. По-моему, у Лотмана в “Анализе поэтического текста” есть
это тонкое наблюдение: один и тот же текст по-разному читается в зависимости от
того, полагаем ли мы его стихами или прозой. Ну, и пишется по-разному. Так вот.
Стихопроза – это проза, а свободный стих – это стихотворение с соответствующей
структурой. Казалось бы, технический вопрос, но за ним стоят разные типы
мышления. Вообще, поэзия и проза имеют разное происхождение.






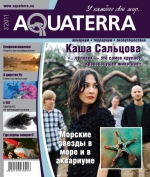
.jpg)

