И вот уже трещат морозы
И серебрятся средь полей..
(Читатель ждет уж рифмы розы,
На вот, возьми ее скорей!)
Ещё хуже, когда стихотворение о любви превращается в письмо другу или подруге. У
меня, как у человека культурного, сразу возникает ощущение брезгливости. Зачем
мне это читать? Разве интересно копаться в чужих чувствах?
Конечно, интересно, скажет кто-то, так как каждое чувство оригинально. Но какая
же, простите, оригинальность, может заключаться в личном любовном послании? Ее
там не может быть по определению, так как это не литература, это
чувствоописание, и мы все отлично знаем, что, когда не влюблен, присутствие в
одном помещении с парой воркующих "идиотов" - самая отвратительная ситуация в
мире.
б) жёсткое ограничение по поэтике. В потоковом стихе нельзя пользоваться
раскидистыми поэтическими метафорами и избыточными (пусть и минимально)
описаниями. Всякие гиперболы и синекдохи тут не прокатят. Текст должен быть
максимально внятный и прозрачный по смыслу, в нём должно быть явное действие,
выстроеное по чётким драматургическим канонам (завязка-развитие-кульминация).
Стих-настроение в прозоформе обречён на неудачу.
И все же Маяковский даже в этих строчках остается самим собой. Мы сразу узнаем
его почерк.
К нему как нельзя более подходит двустишие Шекспира:
Из москвичей в последние годы, на мой взгляд, заметно продвинулся Александр
Рапопорт. Хотя он не всё верлибром пишет, у него и в традиционной технике
хорошие стихи.






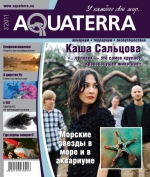
.jpg)

