Мне интересно другое. Мне интересно, как в любви отражается мир. Многообразный,
поэтический. Мне интересна оригинальность чувства, и эта оригинальность должна,
обязана быть предметом работы автора.
2) Любовная лирика сложна потому, что в стихотворении нельзя говорить о СВОЕЙ
любви. Читателю это не интересно. Ну зачем мне знать, что Пупкина любила
Соколова, и он ее бросил, или о том, что секс у Воротниковой был лучше секса
Задрыпина? Читая любовную лирику, я ищу не этого. Я ищу СЕБЯ. Если вы хоть
немного литератор, пишите про МЕНЯ. И тогда, возможно, у вас будут появляться
оттенки и полутона. Не надо писать о силе вашего чувства. Напишите, почему мне
интересна сила Вашего чувства. Напишите, что я, сидя один дома вечером, во мраке
заточения, жду ЕЕ. Или не пишите вообще. Помните – в 90 процентах случаев люди
обращаются к любовной лирике ради того, чтобы получить опыт решения проблем. И
используют стихи, как учебник.
Верлибр должен занимать свою нишу. Его гипертрофия во французской, американской
и некоторых других поэзиях, хотя и по несколько разным причинам, отчасти связана
со свойствами языка, от которых регулярный стих вдвойне зависим. Представь, что
все русские стихи были бы написаны только мужскими рифмами – а ведь именно так
обстоит дело с французскими, где ударение всегда на последний слог. А теперь
вообрази, что все они написаны исключительно женской рифмой, как польские – там
ударение на предпоследнем слоге. Дальше. Жесткий порядок слов в английском
заметно ограничивает естественность и гибкость поэтической речи, а их обычная
краткость затрудняет использование более длинных, чем двустопные, размеров. Ну и
т.д.
3) Любовную лирику нельзя писать так называемым, простым языком. Мне все на это
ссылаются. «Да мы же для пипла хотим сказать, зачем нам сложности?».
Запомните. Просто говорить о том, чего не понимаешь, - не получится. Если кто-то
думает, что "Я вас любил" написано ПРОСТО, то мне его жаль. Это самое сложное
стихотворение Пушкина, которое можно прочесть с 10 интонациями и каждый раз
будет получаться новый смысл. В нем использованы - на 10 строк несколько
метафор, несколько стилистических находок и несколько окказионализмов. Это
вершина сложной поэтики. Оно не абстрактно, но все, что не абстрактно, кажется
предельно простым. И если так воспринимать строки гения, то можно с тем же
успехом смотреть сериалы, разлагая свои серые клетки физически и морально.
Вспомним многие из "Песен западных славян" Пушкина, его же "Песни о Стеньке
Разине", "Сказку о попе и работнике его Балде", сказку "Из-под утренней белой
зорюшки", вспомним лермонтовскую "Песню про купца Калашникова", "Ночную фиалку"
Блока.






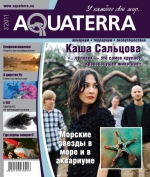
.jpg)

