Но ведь, собственно говоря, свободный стих со строго метрическим непосредственно
и не граничат. Между классом дисстопного стиха и классом моно и полистопного
стиха существует межкласс стихов, который возник в результате нарушения метра.
Каков же этот стих?
Не причем тут душа. Конечно же, любовная лирика имеет право на существование и
должна проходить голубой (толерантность) нитью через творчество любого поэта. В
жизни «Лямур-тужур» тоже занимает важное место. Проблема же состоит в том, что
мы начинаем ее публиковать. Да-да, я про любовь, а вовсе не про лирику. Плохие
стихи о чувствах – это выход «лямура» в тираж.
Теперь перейдем к рассмотрению влияния метра. О том, насколько велика разница
между метрическим стихом и свободным, говорить не приходится. Метрический стих
противоположен свободному стиху и по идиосинкразии к заданности (пять размеров),
и естественности речевой интонации (метрическая строка — прокрустово ложе: фраза
и синтагма, как правило, или короче, или длиннее ее). Кроме того, метр оказывает
сковывающее влияние на лексический выбор и порядок слов в строке, а также
содержит ряд литературных ассоциаций. Вот, например, стихотворение, описывающее
стриптиз. Двустрочия шестистопного хорея делают его в метрическом отношении
подобным «Камаринской»:
Лет до ста
расти
нам
без старости.
Год от года
расти
нашей бодрости. (2)
Конечно, можно говорить о паузе между опытами Серебряного века и новой
востребованностью верлибра в 1960-е – 80-е. Отчасти этот перерыв правда связан с
идеологией, с агрессивно-примитивной советской эстетикой. Но я не уверен, что
дело только в них. В американской поэзии, если я верно понимаю, тоже пролегла
изрядная пауза между Уитменом и повальной верлибризацией последних десятилетий.
Во всяком случае, у нас верлибр в ХХ веке оказался не единственной – и далеко не
самой распространенной – формой модернизации стиха не только по идеологическим
причинам. В свободной от такого давления эмигрантской поэзии его и вовсе
практически не было.






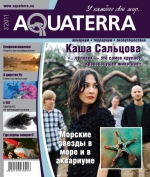
.jpg)

