
|
Таким образом, граница между свободным стихом и крайними формами межкласса
полистопных стихов теоретически неоспоримо существует, но в творческой практике
соблюдать ее очень трудно. Да в этом и нет никакой необходимости.
А столица, накапливая постепенно впрок европейскую спесь и легкий американский жирок, начинает собой гордиться... – то станет понятным, что обновление поэтической формы вполне возможно и в рамках “регулярной” поэзии.
Особым очарованием полны нерифмованные стихи Александра Блока "Вольные мысли" и другие. Но современные реформаторы стиха освободились не только от рифмы, но и от какой бы то ни было метрики. И это бы еще не беда. Образцы свободного стиха мы находим в поэзии с незапамятных времен - и в народном творчестве, и у отдельных поэтов, наших и зарубежных.
Но и в "Пророческих книгах" Блейка, где каждый стих подчинен особому складу и размеру, и в широких, освобожденных от всех метрических канонов строках Уолта Уитмена есть какая-то, хоть и довольно свободная, музыкальная система, есть усложненный, но уловимый ритм, позволяющий отличить стихи от прозы. А у Маяковского - при всем его новаторском своеобразии - стих еще более дисциплинирован, организован. В последние же стихи этого поэта-оратора ("Во весь голос") торжественно вступают строго классические размеры:
|





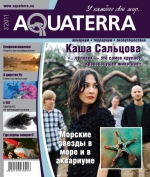
.jpg)

