
|
Ретро-проводка не только выполняет свое прямое назначение, но и представляет собой достаточно важный элемент дизайна помещения. Она может отлично вписаться в интерьер как деревянного дома, так и квартиры в стиле лофт. Однако монтаж ретро-проводки http://rs-electro.ru/categories/bironi-retroprovodka должен осуществляться в соответствии с определенными требованиями. Основные этапыИтак, прежде всего необходимо нарисовать проект будущей проводки. Это очень важно, так как все ее линии будут играть роль элементов интерьера и должны гармонично вписаться в него. Исходя из планируемых нагрузок, подберите нужное сечение проводов. Для подключения дома обычно достаточно 1,5 мм, но можно выбирать многожильный медный провод сечением 2,5 мм. Определитесь с их цветом, а затем приобретите комплект необходимых элементов для монтажа в любом специализированном магазине. Он должен включать:
В процессе монтажа особое внимание следует уделять соединениям проводов. Рекомендуется их спаять и заизолировать, так как обычные скрутки и клеммники не смогут обеспечить высокой надежности соединения, а это способно вызвать перегрев и даже возгорание проводки. Следите за тем, чтобы расстояние между керамическими изоляторами не превышало 45 сантиметров, так как это приведет к провисанию провода. На поворотах рекомендуется использовать сразу два изолятора, расположенных под углом в 45 градусов. Для того чтобы монтаж ретро-проводки был осуществлен грамотно, желательно доверять эту процедуру профессионалам. Дата: 21.06.2019.
|





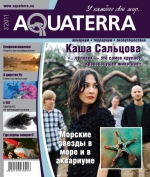
.jpg)

