
|
Но не будем спорить здесь о рифме. У поэзии много музыкальных средств и без нее.
Да к тому же пустое рифмоплетство так часто вызывает только досаду, подменяя
собой настоящее поэтическое творчество.
Мы знаем, что в греческой и латинской поэзии, богатой аллитерациями, и совсем не было рифмы. Шекспир в своих трагедиях и комедиях пользуется ею только изредка. Без рифм зачастую обходится испанская поэзия. Отсутствовала она и в "Эдде", и в наших былинах, и в "Калевале".
Марс находить на небе. Ты давал подержать на ладони Пистолет “ТТ”... Я почти забыл тебя. Только помню кавалерийскую шинель Да зубчатые, как будто бы из часового механизма, Колесики шпор... – и т. д. И только гораздо позже понял, что, за исключением первых четырех строк, все оно до конца написано верлибром, а тогда мне это и в голову не приходило, да и слова такого я не слышал.
|





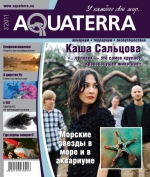
.jpg)

